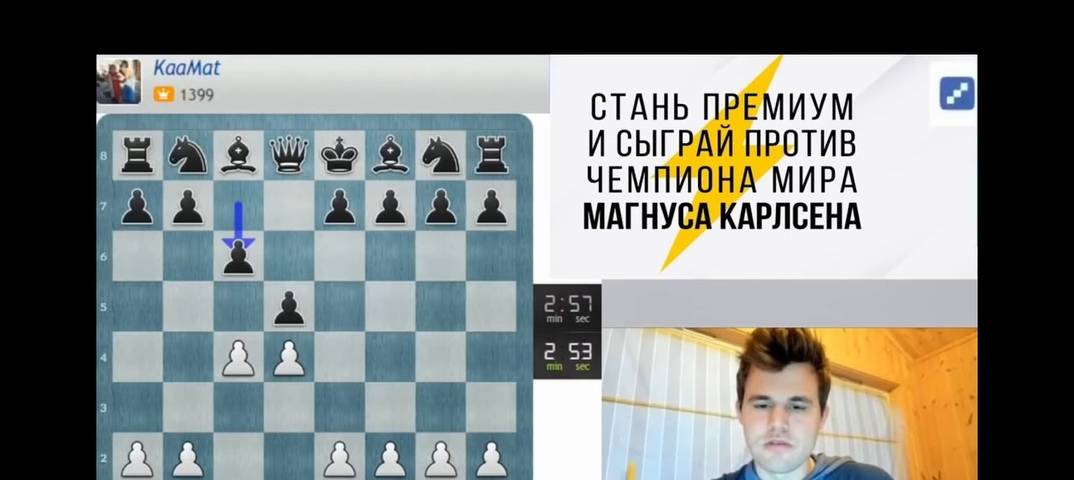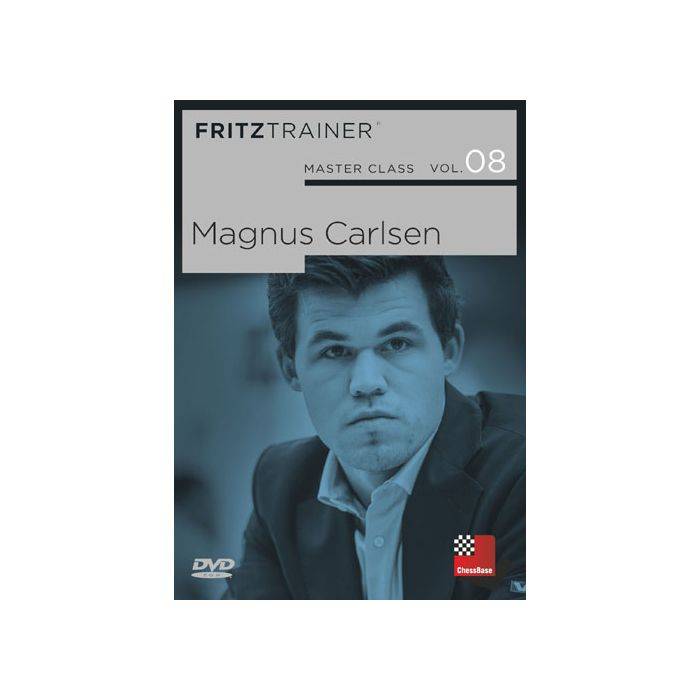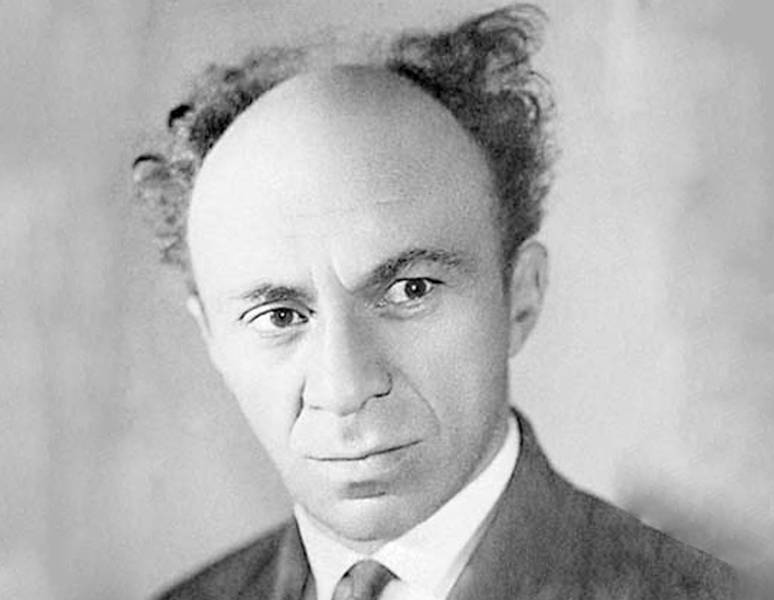Коллективное принуждение к отдаче
Не все охотно делились с ближними. Кожное психическое, доведенное до крайности лишениями и помноженное на дистрофию тела, давало патологическую жадность. За дележом пищи ревниво следили все, от мала до велика, контроль за распределением еды был строжайший не столько от инстанций, сколько от самих горожан. Социальный стыд в условиях, когда добро и зло предельно обнажены и нет ни малейшей возможности самооправдания, был главным контролером.
«Как ты смел об одном себе думать»? — упрекали мальчишку, пойманного при попытке кражи карточек. Любой поступок оценивался «по коду милосердия», любое отступление скрупулезно фиксировалось в дневниках . Того, кто выказывал радость от попадания бомбы в дом (можно разжиться дровишками), именовали «прохвостом», скупо фиксировалась и «буфетчица с лопающимся от жира лицом». Никаких оценок, никакого осуждения, только описание, не оставляющее сомнений в немилосердности получателя ради получения.
Коллективное принуждение к отдаче в стаю было очень сильным. Кто с досадой, кто с обидой, но вынуждены были признавать право другого на получение помощи, вынуждены были отдавать. Тех, кто не мог работать, а значит, и получать паек, старались отправить в стационары, определяли инвалидность третьей (рабочей) группы всем, кто мог хоть как-то передвигаться. Глубокими инвалидами были практически все блокадники. Официальная инвалидность означала отсутствие рабочей продуктовой карточки и верную гибель.
Зверь стоокий
Голод обострял восприятие. Люди были готовы видеть обман и кражу повсюду. Скрыть свое процветание за счет других было невозможно: все написано на сытом лице. Лучшего заслона от стяжательства нельзя было и придумать. Перефразируя Тютчева, можно сказать, что голод, как зверь стоокий, глядел на каждого из куста. Социальный стыд и в условиях снижения планки дозволенного удерживал многих от мародерства, кражи, подлости.

Лукавство ради выживания не осуждалось. Сокрытие смерти ребенка ради сохранения его карточки для других членов семьи не порицалось. Кража ради наживы — вот что было непростительно, не совместимо с понятием «человек» (купить пианино за булку хлеба, взятки за эвакуацию). Люди не просто замечали «гревших руки», они писали жалобы руководителям города, вплоть до А. Жданова, требовали разобраться с жиревшими за чужой счет «кладовщицами-продавщицами-управдомами». Со студенткой, укравшей карточки в общежитии, отказывались жить в одной комнате.
В таких условиях присваивать себе принадлежавшее всем способны были лишь индивиды, безнадежно провалившиеся в архетип озверения. Для них не находилось в людских душах даже ненависти, только презрение. С горечью и отчаянием признавались люди в своих «преступлениях»: нес хлеб жене, не удержался, съел сам… вышло так, что я что-то получила за свои услуги… все нутро томится по каше… Зачем они писали об этом в дневниках? Можно ведь было скрыть. Не скрывали. «Съел 400 грамм спрятанных для дочери конфет. Преступление» .
Самопожертвование или эгоизм
«На каждом шагу — подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность», — вспоминал о блокадном «смертном времени» академик Д. С. Лихачев. Системно понятно, что в ранжирующих условиях голода недостаточное развитие свойств психического в отдачу приводит к животному типу поведения: потребил—выделил—потребил. Это превращает человека в существо вне стаи, т.е. обрекает его на гибель.
Многоумные снобы, истеричные эгоисты, обособившиеся в звуковую ракушку эгоцентрики, иные прочие потребители ради потребления в себя бесславно помирали или оставались коптить небо сытыми зверушками. Воровавшие у умирающих, наживавшиеся на общем горе, объедавшие сирот, любыми способами устраивавшиеся при кормушках — о них в блокадных дневниках лишь досадные упоминания. Жаль сил на шваль тратить. Рассказать о достойных людях — только эта задача стоила неимоверных усилий, которые тратили умирающие люди на свои дневники.

В разделении смерть
Только высшая развитость зрения может обозначить бомбардировку госпиталей и детских садов городским словом «хулиганство». Ленинградский интеллигентский шик оставался таким и на дне ада. «Обстрел мирного населения — это не что иное, как наглое хулиганство врага, т.к. никакой пользы для себя неприятель не достигает» .
Перед внешней угрозой становились ничтожными прежние счеты и распри. Бывшие коммунальные «непримиримые враги» выживали сообща, делились последним, оставшиеся в живых взрослые брали под опеку сирот. В разделении смерть. Тогда это хорошо понимали. Вместе собирали подарки для солдат, покупали за бешеные деньги папиросы, вязали варежки, носки, навещали раненых в госпиталях. Несмотря на весь ужас своего положения, понимали: на фронте, в окопах решается общая судьба, есть раненые, сироты, есть те, кому еще тяжелее, кому необходима помощь.
Были и те, кто пытался отсидеться, прикрывшись своими делами. Сложно осуждать этих людей, для многих и многих тогда желание пищи было единственным признаком жизни. Такая позиция не приветствовалась. И не потому, что государство, как Молох, требовало жертв. Участие в общем деле отдачи было необходимо каждому, не все могли осознать это. Прекращение работы на пользу стаи означало гибель не только и не столько физическую (первыми отказывали мышцы, которые не использовались). Потеря способности свободного выбора получения ради отдачи означала, в зрительных терминах, потерю человеческого лица, а в звуковых смыслах — исключение себя из группы, что хуже смерти тела.
Хлеб для детей!
Нет чужих детей. Этот постулат уретрального самосознания как никогда ясно ощущался в блокадном Ленинграде. Слова «Хлеб для детей!» стали своеобразным паролем, заклинанием против корыстных побуждений.
Около Нарвских ворот перевернулись санки с соевыми конфетами — новогодними подарками для детей-сирот. Бредущие рядом голодные тени остановились завороженные, кольцо вокруг санок и женщины-экспедитора медленно сжималось, слышались глухие крики радости. «Это для сирот!» — выкрикнула в отчаянии женщина. Люди, окружившие санки, взялись за руки. Так они стояли до тех пор, пока все коробки не были упакованы . Поодиночке было бы не справиться со зверем в себе, вместе они сделали это.
Дети блокады в своих дневниках с великой благодарностью вспоминают милосердие к ним чужих людей. Ни одна дарованная крошка хлеба не изглаживалась из памяти. Кто-то отдал свой обед обессиленной девочке, кто-то делился хлебом.
Пришла в совхоз старушка устраиваться на работу. Еле на ногах стоит, бледная, лицо в глубоких морщинах. А работы нет, зима. Приходите, бабуля, весной, говорят ей, и тут выясняется, что старушке … 16 лет. Нашли работу, выхлопотали карточку, спасли девушку. Многие блокадные дневники — сплошное перечисление подарков. Кто-то обогрел, напоил чаем, приютил, дал надежду, работу. Были и другие. Их удел забвение.
Хлеба! Дайте мне хлеба! Я погибаю…
Давали. Запихивали негнущимися пальцами в чужие бессильные рты драгоценные свои «довески», отнимали у своей пустоты, чтобы наполнить чужую зияющую нехватку жизни. Получение конечно. Отдача не имеет границ. Цепкий взгляд блокадника жадно фиксировал малейшее проявление этой немыслимой отдачи, невероятного, за границами понимания — Милосердия.

Старенький доктор, едва поднявшийся в квартиру больного по обледеневшей лестнице, отказывается от царского вознаграждения — Хлеба. На кухне для больного варят еду — студень из столярного клея. Ужасающий запах никого не ужасает. Шкала различий приятных и дурных запахов изменилась. Все, что можно съесть, пахнет хорошо. Доктор советует опускать ладони больного в теплую воду. Других лекарств нет. Этому событию посвящена страница мелким почерком в дневнике сына больного. Он переживет отца и напишет книгу воспоминаний о «смертном времени». Это будет книга о благородстве. Люди должны знать. Иначе озверение и смерть.
Мальчик 9 лет идет в булочную. Он один из семьи еще ходит. От того, отоварит ли мальчик хлебные карточки, зависит жизнь его мамы и сестренки. Мальчику везет. Продавец выдает ему порцию с довеском — наградой тому, кто тащит неподъемную ношу многочасовых очередей на морозе. Мальчик не сможет съесть довесок, не разделив его с теми, кто слабее. Его найдут только весной, в сугробе недалеко от дома. Он будет бороться до последнего.
«Девочки, можно ваши адреса?..»
Визиты к раненым, посещение действующих частей, общение с воинами наполняло голодающих ленинградцев верой в неизбежность нашей победы. Встречали блокадников всегда радостно, пытались подкормить. Просьба раненого к девушке: «Приди, постирай платочки, посиди рядом, поговори»… И она вспоминала, что кроме еды и страха, есть наслаждение дарения, любовь. «Девочки, можно ваши адреса?» — с незашитым животом молодой солдат думал о будущем мирном времени, о возвращении к нормальной жизни. И голодная девочка рядом думала о том же, пусть и как о несбыточном. Происходило чудо, о котором писал Д. С. Лихачев — «хорошие видели Бога», ощущали возможность спасения.

Из осажденного Ленинграда шли письма на фронт, с фронта в блокадный ад возвращались письма бойцов. Нередко переписка была коллективной — перечень благодарностей и обязательств, исповеди, признания в любви, обещания, клятвы… Осажденный город и передовая были едины, это давало уверенность в победе, в освобождении.
Другая «жалость»
Воплощением зла, жестокости, смерти был фашизм. Внешний враг сплачивал стаю, нивелируя отдельные вспышки зверства внутри нее. «Мы не хотели, чтобы наших мальчиков и девочек угоняли в Германию, травили собаками, продавали на невольничьих рынках. Поэтому мы были требовательны» . Заставляли полуживых, опухших от голода выходить на очистку улиц от снега и трупов («ставили на лопату»), иначе весной эпидемия. Выгоняли на улицы из квартир вонючие кучи рванья, заставляли их шевелиться, заставляли жить, сколько отмерено, но человеком. Заставляли мыться, следить за собой, сохранять культурные навыки.
Принуждать голодного делать то, что ему мучительно, жестоко, пожалеть бы. Но была другая «жалость», выглядящая порой как жестокость. Имя ей милосердие, которое часто понимается через зрительные ряды как жалость, сострадание к личности. А это другое. Невозможность допустить, что кто-то сильнее тебя, следовательно, должен отдать больше. Уретральная отдача вождя стаи: если не я, то кто? Нет личных мотивов. Судьба Ленинграда, судьба страны — вот общий мотив.
Женщина везет на санках мужа. Тот постоянно заваливается от слабости, и женщине приходится вновь и вновь усаживать его. Едва отдышавшись, несчастная продолжает путь по обледеневшей набережной. Снова падение и усаживание. Вдруг костистая старуха с оскаленным голодным ртом. Вплотную приблизившись к мужчине, она сквозь не знающую границ площадную брань бросает ему в лицо два слова: «Сидеть или смерть! Сидеть или смерть!!» Крика не получается, это скорее шипение, шепот, в самое ухо. Больше мужчина не падает. Обонятельные смыслы выживания, во что бы то ни стало, донесены до подсознания оральным словом.
Выжили, потому что работали на целое
Люди выжили, потому что трудились на общее дело, на Победу. «В городе было сооружено более 4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Триста тысяч ленинградцев участвовали в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах. Осажденный город давал фронту вооружение и боеприпасы. Из ленинградцев было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из них стали кадровыми» .
Люди выжили, потому что из последних сил сопротивлялись блокадному хаосу, не давали взять верх злу в себе. Сохраняя системность коллективных действий, они оставались в парадигме «человек», обеспечивая будущее виду homo sapiens.
Сможем ли мы удержаться на высоте этой задачи, зависит от каждого из нас.
Милосердие для сильных
Сохранить тепло, воду, кусок хряпы (верхние, не идущие в пищу капустные листы) на завтра значило еще немного продолжить жизнь тела. Сохранить милосердие значило остаться человеком. Это и было законом выживания в блокадном Ленинграде. Милосердие — прерогатива сильных, тех, кто способен оторвать от себя и отдать более слабому не из снисхождения или пресыщения, а по истинному желанию своему обеспечить будущее вида «человек».
Уретральное милосердие в структуре психического дано немногим. Но в коллективном бессознательном нашего народа это качество доминирует, формируя менталитет всех думающих по-русски. Преступить черту милосердия — значит нарушить неписаный закон жизни ментально уретральной стаи, стать изгоем, обнулиться для будущего.
Ленинград — особый город, где зрительная культура всегда была представлена интеллигенцией особой пробы. Недаром и сейчас, в пору глобализации, слова «он(а) из Питера» имеют для русского уха особый смысл, вроде знака принадлежности к особой касте людей с развитым верхом. Этот знак и этот смысл ленинградцы-петербуржцы вынесли из блокадного ада, где остаться людьми имели шанс только самые развитые в психическом. Смерть от голода не была так страшна, как одичание, полная аннигиляция зрительной культуры, превращение в убогое трясущееся существо, готовое на все за кусок дуранды (жмыхи: остатки семян масличных растений после выжимания из них масла).
В повседневной жизни степень развитости человека в психическом не всегда определяется четко. Все кажутся в меру милыми и неглупыми, в меру «окультуренными». Только настоящие испытания показывают, кто есть кто, только в условиях прямой угрозы жизни обнажается скрытый в психическом бессознательном «код выживания». У каждого он свой в строгом соответствии с уровнем развития векторальных свойств.